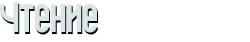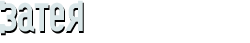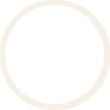"Тетрадь Фантастики"Джанни Родари. Грамматика фантазии. Пер. с итальянского Юлии ДобровольскойСамокат, 2011
Предыстория Зимой 1937/38 года я по рекомендации одной учительницы, жены регулировщика уличного движения, устроился преподавать итальянский язык детям немецких евреев, которые в течение нескольких месяцев обольщали себя надеждой, что избавились от расовых преследований и обрели в Италии надёжное пристанище. Я жил у них дома, на ферме, в холмистой местности близ Лаго Маджоре. С детьми занимался с семи до десяти утра, а остаток дня проводил в лесу — бродил и читал Достоевского. Хорошее было время: жаль, что быстро кончилось. Подучившись немецкому, я накинулся на немецкие книги с той одержимостью, безалаберностью и упоением, которые приносят изучающему язык во сто крат больше пользы, чем любые систематические занятия, длись они хоть целый век. Однажды во «Фрагментах» Новалиса (1772–1801) я обнаружил такое высказывание: «Если бы мы располагали фантастикой, как располагаем логикой, было бы открыто искусство придумывания». Великолепная мысль! Вообще «Фрагменты» Новалиса — кладезь премудрости, почти в каждом содержится неожиданное открытие.
Именно тогда я дал своей весьма немудрёной писанине помпезное название «Тетрадь Фантастики». Я заносил в неё не сами истории, которые рассказывал детям, а то, как эти истории складывались, к каким я прибегал ухищрениям, чтобы оживлять слова и образы… Предлагаемая книжка есть не что иное, как обработка этих Я надеюсь, что эта книга сможет быть в равной степени полезна всем, кто считает необходимым, чтобы воображение заняло должное место в воспитании, кто возлагает большие надежды на творческое начало у детей, кто знает, какую освободительную роль может сыграть слово. «Свободное владение словом — всем!» — на мой взгляд, это хороший девиз, девиз добротного демократического звучания. Не для того, чтобы все были художниками, а для того, чтобы никто не был рабом. 2. Камень, брошенный в пруд Если бросить в пруд камень, по воде пойдут концентрические круги, вовлекающие в свое движение, на разном расстоянии, с различными последствиями, кувшинку и тростник, бумажный кораблик и поплавок рыболова. Предметы, существовавшие каждый сам по себе, пребывавшие в состоянии покоя или дремоты, как бы оживают, они вынуждены реагировать, вступать во взаимодействие друг с другом. Движение распространяется вширь и вглубь. Камень, устремляясь вниз, расталкивает водоросли, распугивает рыб; достигая дна, он вздымает ил, натыкается на давно забытые предметы; некоторые из них оголяются, другие, напротив, покрываются слоем песка. За кратчайший миг происходит множество событий или микрособытий. Даже при наличии желания и времени вряд ли можно было бы зафиксировать их все без исключения. Так же и слово, случайно запавшее в голову, распространяет волны вширь и вглубь, вызывает бесконечный ряд цепных реакций, извлекая при своем «западании» звуки и образы, ассоциации и воспоминания, представления и мечты. Процесс этот тесно сопряжён с опытом и памятью, с воображением и сферой подсознательного и осложняется тем, что разум не остается пассивным, он всё время вмешивается, контролирует, принимает или отвергает, созидает или разрушает. Возьмем, к примеру, слово sasso (камень). Дойдя до сознания, оно либо застревает в нём, либо наталкивается на — со всеми словами, начинающимися с буквы «s», но после которой идет не «а», а Это ассоциации «ленивые», приходящие в голову сразу. Одно слово сталкивается с другим по инерции. Маловероятно, чтобы это дало искру. (Впрочем, всякое бывает.) Тем временем слово продолжает свое стремительное движение в других направлениях, погружается в мир прошлого; на поверхность всплывает то, что лежало на дне. У меня, например, слово sasso (камень) ассоциируется с Санта Катерина дель Сассо — храмом, возвышающимся над Лаго Маджоре. Мы с Амедео ездили туда на велосипеде. Усаживались в холодке под портиком, потягивали белое вино и рассуждали о Канте. Студенты-«загородники», мы встречались с Амедео и в поезде. Амедео ходил в длинной синей накидке. Иной раз под ней угадывались очертания футляра со скрипкой. У моего футляра оборвалась ручка, и я носил его под мышкой. Амедео потом служил в альпийских частях и погиб. В другой раз воспоминание об Амедео возникло у меня в связи со словом «кирпич», оно напомнило мне низкие печи для обжига кирпичей в Ломбардии и наши с ним долгие прогулки — в туман, в дождь; мы могли бродить часами, разговаривали о Канте, о Достоевском, о Монтале, об Альфонсо Гатто. Дружба шестнадцатилетних оставляет глубокий след. Но сейчас речь не об этом. Речь о том, как случайно произнесенное слово может сыграть магическую роль, разгрести залежи, покоившиеся в памяти, припорошенные пылью времени. Совершенно такое же действие возымело слово madeleine на Пруста. После него все «писатели по памяти» научились (даже слишком хорошо научились!) вслушиваться в далекие отголоски слов, запахов, звуков. Но наша задача — придумывать сказки для детей, а не сочинять рассказы ради встречи с утраченным прошлым. Впрочем, и с детьми было бы забавно и полезно затеять иногда игру с памятью. Самое обычное слово может подсказать «что было в тот раз, когда», может содействовать самовыражению, измерить расстояние между днём сегодняшним и вчерашним, хотя вчерашних дней у ребёнка, к счастью, ещё немного и содержимого в них мало. Если отправной точкой может служить Слова mattone (кирпич) и canzone (песня) представляются мне интересной парой, хотя и не такой «прекрасной и неожиданной, как зонтик со швейной машинкой на анатомическом столе» («Песни Мальдорора»). Эти слова для меня соотносятся, как sasso (камень) с contrabbasso (контрабас). Видимо, скрипка Амедео, добавив элемент положительных эмоций, содействовала рождению музыкального образа. Вот музыкальный дом. Он построен из музыкальных кирпичей и из музыкальных камней. Стены его, если ударять по ним молоточками, могут издавать любые звуки. Я знаю, что над диваном есть Думаю, что узник попал в рассказ благодаря рифмующимся prigione (тюрьма) и canzone (песня); этой рифмой я сознательно пренебрёг, но она, конечно же, затаилась и ждала удобного момента. Железная решётка вроде бы напрашивалась сама собой. Впрочем, может быть, это и не так. Наиболее вероятно, что мне её подсказало промелькнувшее в памяти название одного старого фильма: «Тюрьма без решёток». Воображение может устремиться и по другому руслу: Рухнули решётки всех тюрем мира. Узники выходят на волю. И воры тоже? Да, и воры. Ведь тюрьма плодит воров. Не будет тюрем — не будет и воров… Хочу заметить, что в этом, на первый взгляд машинальном, процессе участвует некий стереотип: мое мировоззрение, которое одновременно этот стереотип и преобразует. Сказывается влияние давно или недавно прочитанных книг. Настоятельно заявляет о себе мир отверженных: сиротские приюты, исправительные дома, богадельни, психиатрические больницы, неуютные школьные классы. В сюрреалистические экзерсисы вторгается реальность. И в конце концов вполне вероятно, что когда образ музыкального городка выльется в рассказ, то это уже не будет фантазией на отвлеченную тему, а один из способов раскрытия действительности и изображения её в новых формах. Но наше исследование слова sasso (камень) не закончено. Мне надо ещё раз к нему «принюхаться», как к организму, обладающему определённым значением и звучанием, надо разложить его по буквам, обнаружить слова, которыми я до сей поры пренебрегал. Напишем буквы, из которых состоит это слово, одну под другой: — S Теперь возле каждой буквы я могу написать первое пришедшее мне в голову слово, выстроив таким образом новый ряд, например: Sardina — Сардина Или — так будет интереснее — напишем возле пяти букв пять слов, образующих законченное предложение: Sulla — Ha В данный момент я не знаю, к чему мне семь гусынь на качелях — разве лишь для того, чтобы выстроить рифмованную белиберду вроде: Cемь гусынь на качелях Но не следует ждать более или менее интересного результата с первой же попытки. И я по той же системе нащупываю ещё один ряд: Settecento — Семьсот Эти «семьсот» — автоматическое продолжение предыдущих «семи». Ocarine (окарины) возникли явно под влиянием oche (гусынь), но появлению их, безусловно, содействовала и близость с упомянутыми выше музыкальными инструментами. Шествие из семисот адвокатов, играющих на окаринах, — недурной образ! Я лично придумал множество историй, начав с одного случайно выбранного слова. Так, однажды оттолкнувшись от слова cucchiaio (ложка), я получил следующий ряд: cucchiaio (ложка) — Cocchiara — прошу простить меня за столь вольное, хотя и не совсем неуместное, поскольку речь идет всё же о сказке, обращение со знаменитым именем — chiara (светлая) — chiara d'uovo (яичный белок) — ovale (овал) — orbita (орбита) — uovo in orbita (яйцо на орбите). Тут я сказал себе «стоп» и написал историю под названием «Мир в яйце» — нечто среднее между фантастикой и розыгрышем. Теперь со словом «sasso» (камень) можно и распрощаться. Но не думайте, что мы исчерпали его возможности. Поль Валери сказал: «Если заглянуть поглубже, нет такого слова, которое можно было бы понять до конца». То же говорит и Витгенштейн: «Слова подобны верхнему слою воды над омутом». Чтобы сочинять истории, нужно как раз нырять под воду. В связи со словом «кирпич» напомню американский тест на определение творческих способностей, о котором говорит Марта Фаттори в своей прекрасной книге «Творческие способности и воспитание». Детям при проведении этого теста предлагают перечислить все случаи употребления слова «кирпич», какие они знают или могут вообразить. Возможно, слово «кирпич» потому так настойчиво и лезет мне в голову, что я недавно прочел книгу Фаттори. К сожалению, такого рода тесты ставят целью не стимулировать творческое начало у детей, а лишь определять степень их развития, чтобы отбирать «отличников-фантазёров» так же, как с помощью других тестов отбирают « 3. Слово «Чао!» В дошкольных детских учреждениях После моего рассказа о том, как придумывать истории, отталкиваясь от одного заданного слова, преподавательница Джулия Нотари из приготовительной школы «Диана» спросила у детей, не хочется ли Один мальчик растерял все хорошие слова, остались у него только плохие: дерьмо, какашка, зараза и всё такое прочее. Тогда мама отвела его к доктору (у доктора были огромные усищи), тот сказал:// — Открой рот, высунь язык, посмотри вверх, посмотри в себя, надуй щёки. И потом велел мальчику пойти поискать хорошее слово. Сначала мальчик нашёл вот такое слово (показывает расстояние сантиметров в двадцать); это было «у-у-уф!», то есть нехорошее слово. Потом вот такое (сантиметров в Во время рассказа маленькие слушатели дважды сами включались в игру — подхватывали и развивали затронутые темы. В первый раз, когда зашла речь о «плохих» словах, ребята весело, задиристо стали продолжать перечень: плюс к уже упомянутым выдали целый набор известных им непристойностей; всем, кто имеет дело с детьми, знакомо их пристрастие к пищеварительной лексике во время « Технически игра в ассоциации протекала согласно схеме, которую современные лингвисты называют «осью выбора» или парадигматикой, то есть поиски близких слов шли вдоль смыслового ряда. Но это не было отвлекающим моментом, не уводило от темы рассказа, а, напротив, проясняло и определяло её развитие. В работе поэта, по словам американского лингвиста Р. Якобсона, «ось выбора» проецируется на «ось сочетания» (синтагматику); звук (рифма) может вызвать к жизни значение, словесная аналогия может породить метафору. То же самое происходит, когда историю сочиняет ребёнок. Речь идет о творческой операции, имеющей также и эстетический аспект, однако нас она интересует с точки зрения выявления творческого начала, а не поэтического искусства. Во второй раз слушатели прервали рассказчика, чтобы обыграть тему врача: предлагали варианты традиционного «высунь язык». Развлечение это имело двойной смысл: психологический, поскольку оно, осмешняя, дедраматизировало образ врача, всегда вызывающего у детей опаску, и спортивный — каждый стремился вырваться вперед, найти такой вариант, который оказался бы самым метким и неожиданным («посмотри в себя»). Такого рода игра — это уже зарождение театрального действа, первая стадия драматизации. Но поговорим о структуре рассказа. В сущности, она основана не только на самом слове «Чао!», на его значении и звучании. Ребёнок, начавший рассказывать историю, взял в качестве темы словосочетание — «слово «Чао!» — как единое целое… Словосочетание «слово «Чао!», напротив, тотчас дало повод построить вдоль «оси выбора» две категории слов: «слов хороших» и «слов плохих», и затем, с помощью жеста, две другие категории — «слов коротких» и «слов длинных». Этот В определённый момент придумываемая история подвергается цензуре — её осуществляет культурная модель. Ребёнок определяет как «плохие» те слова, которые считаются неприличными дома. «Плохими» их считают родители и внушают ему это. Но сейчас, во время сочинения истории, ребёнка окружает такая атмосфера, которая располагает к преодолению определенных ограничений: никто не подавляет его инстинктов; даже если он будет употреблять «плохие» слова, его не станут ругать. В этой связи самым поразительным было то, что под конец юные авторы рассказа от употребления известного рода слов, произносившихся ими вначале, полностью отказались. «Плохие» слова, на которые ребёнок наталкивается в своем поиске, — «у-у-уф!», «отстань!» — согласно репрессивной мерке плохими не считаются; однако это слова отчуждающие, обидные, слова, не помогающие приобретать друзей, проводить вместе время, вместе играть. Они — антонимы не абстрактно «хороших» слов, а слов «добрых и ласковых». Так родилась новая категория слов, в которой выявляют себя новые понятия, впитываемые ребёнком в школе. Вот чего достиг интеллект, реагируя на им же созданные образы, давая им оценку, управляя ассоциациями, — и всё это при активном участии введенной в действие ребячьей личности. Ясно также, почему словечко «Чао!» непременно розовое: розовый цвет нежный, тонкий, неагрессивный. Цвет — показатель сущности. И всё-таки жаль, что мы не спросили у мальчика: «А почему розовое?» Ответ его разъяснил бы нам 4 февраля 2011
Чтобы оставить комментарий к статье, вы должны авторизоваться.
|
Другие материалы
|
|
|