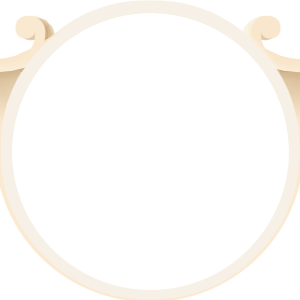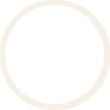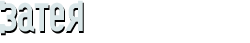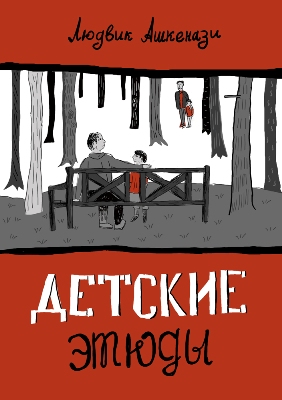Людвик Ашкенази (1921-1986) родился в Чехословакии, учился в польском Львове, 
советскими властями был вывезен в Казахстан, воевал в Чехословацком корпусе, вернулся на родину, а потом уехал в Западную Германию, где и прожил до конца своих дней. Его книги издавались по-русски в 60-х годах ХХ века. И хотя они выходили небольшими тиражами, их успели полюбить дети и взрослые в Советском Союзе. А потом Ашкенази печатать у нас перестали, потому что он стал врагом — уехал жить из страны социализма на Запад. Это ведь только теперь можно ездить и жить, где вздумается. Раньше было не так. И вот через много лет его книги решили переиздать. «Детские этюды» — это истории про маленького мальчика, чем-то напоминающие рассказы В. Драгунского. Но в них всё немножко по-другому, наверное, потому, что и мальчик, и папа живут совсем в другой стране. Перед тем как мальчик появился на свет, его папа сделал маленького человечка, почти что Голема, ведь он так хотел иметь ребенка.
ОДНА ИЗ «ПЯТИ МАЛЕНЬКИХ ПРЕЛЮДИЙ»
Как я тебя увидел
Когда мы с тобой проходили вчера мимо того некрасивого, неоштукатуренного дома из красного кирпича, из него вышла медицинская сестра, совсем обыкновенная, в белом халате и голубом чепце. Она остановилась перед нами, словно мы были старые, добрые знакомые, которых приветствуют одним лишь взглядом. Она тебя легонько обняла и сказала:
— А я было и не узнала тебя!
А ты спросил:
— Откуда вы меня знаете?

Сестра засмеялась и пошла дальше; сёстры ведь всегда торопятся. Поэтому сегодня я хочу рассказать тебе, что в этом красном доме из неоштукатуренного кирпича родятся дети. Надо бы выкрасить его в белый цвет — в честь и во славу людей. И на крыше надо бы держать два флага — розовый и голубой — и, как только кто-нибудь родится, поднимать флаг, чтобы весь город знал, что сейчас родился человек — мальчик или девочка.
Здесь-то я в первый раз тебя и увидел.
Сначала я ждал дома звонка. То и дело выглядывал в окна, будто кто-то должен приехать. Но никто не приезжал, и только вдали трезвонил трамвай, а один раз вспыхнула неслышная трамвайная молния. В её металлическом блеске я видел, как люди выходят из вагонов. Все шли быстро, и мне казалось, что они спешат ко мне.
И тут зазвонил телефон.
Звонила сестра в голубом чепце — та самая, которую мы встретили вчера, — и сказала, что родился ты и уже сосёшь молоко. У тебя ещё не было имени, а ты, дружище, уже кричал.
Это я не в упрёк тебе говорю, просто отмечаю порядка ради, чтобы ничего не упустить.
— Идите в кино, — сказала сестра, потому что угадала беспокойство в моём голосе.
Но я остался дома. Заглянул ко мне сосед, некто Ворел, обойщик и старый холостяк, прославившийся в доме тем, что сочинил марш «Хоровод карликов». Один раз марш передавали по радио, и с той поры Ворел очень возгордился и стал носить чёрную широкополую шляпу.
— Извините, — сказал он, — нет ли у вас перца? Я делаю огуречный салат, огурцы есть, а перца нет.
И я предложил ему: пусть несёт сюда свой огуречный салат, и мы вместе отпразднуем твоё рождение. Ворел обрадовался и говорит:
— Хороший вы человек, сейчас я только сбегаю куплю студня!
Он вернулся в нарядном сером галстуке. Так мы с Ворелом трезво отметили твоё появление на свет, и я подарил ему того куклёнка, потому что Ворел старый холостяк и никого у него нет.
— Идея! — сказал он. — В ближайшие дни я напишу интермеццо «Кукла». Вы знаете моё сочинение «Хоровод карликов»?
По-моему, он всё-таки бросил композиторскую деятельность, но с Человечком он очень подружился. Человечек сидел на ночной тумбочке в своей белой рубашечке и таращил на Ворела преданные глаза из кнопок. А Ворел сделал ему маленькую кушетку, потому что был обойщиком.
На следующее утро я пошёл в родильный дом. Купил по дороге румынские сливы и тюльпан.
Когда мама увидела меня, она притворилась равнодушной.
— О, ты пришёл, — сказала она, — пришёл всё-таки…
Как будто она думала, что я уж никогда не приду. Она строго оглядела меня: приличный ли у меня вид и похож ли я на отца.
— Возьми меня за руку, — сказала она, — здесь так делают все мужья. Здесь надо брать за руку.
— Вот румынские сливы, — сказал я неуверенно. — А куклёнка я подарил мебельщику…
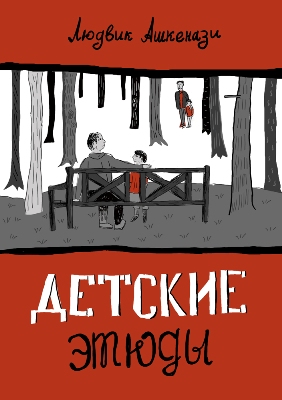
Она надкусила сливу и вдруг уронила слезинку — такую незаметную, женскую, самую обыкновенную слёзку, которую порой и не замечают.
— Это от слив, — сказала она растроганно, — они такие сладкие.
И держала меня за руку, как это здесь принято. Но вдруг она переменилась. Лицо её вытянулось, а рот раскрылся, как у тебя, когда ты слушаешь сказку. В глазах промелькнуло что-то необычное, под тонкой белой кожей вспыхнул румянец, совсем лёгкий, даже не розовый.
— Слушай! — сказала она. — Это он!
— Кто? — спросил я удивлённо.
— Он… кричит…
Кричало добрых девять младенцев. А может, только восемь.
— Ты его узнаёшь?
— Да, — ответила она, — я его узнаю.
Потом ты приехал на белой тележке. Вас на ней было пятеро, и это были твои первые товарищи. Все вы были красные, только девочка казалась чуть-чуть лиловатой.
Встретитесь ли вы когда-нибудь в жизни, друзья? Все вы были похожи один на другого, и у всех у вас сердце было там, где следует. Тогда вы умещались впятером на маленькой белой тележке, — завтра, быть может, вам тесной покажется планета.
А у той девочки будут светлые волосы и загорелая шелковистая кожа, и ей очень пойдёт летнее платье с юбкой колоколом, если только к тому времени не изменится мода.
Мамы разобрали детей, а наша сказала:
— Посмотри, какие у него пальцы, как у человека, только маленькие. И глаза как у человека, и ресницы, и морщинки…
Потом она съела ещё одну румынскую сливу и сказала:
— Ну, пора, уходи!
ИЗ «ДЕТСКИХ ЭТЮДОВ»
Как кататься на коньках
В один прекрасный день набираешься духу и встаёшь на коньки.
Мы купили привинчивающиеся коньки и отправились на каток.

Человечек весь порозовел от надежды — он ведь тоже хочет стать фигуристом!
Сначала мы долго смотрели на ледяное поле: пёстрый круговорот, из которого взор выхватит то короткую чёрную юбочку и белоснежные ботинки, то шапочку с длинной кистью, то норвежский свитер с оленями, то горящие щёки или серебряный блеск коньков…
Опыт у Человечка уже был, и он смело сошёл на лёд. С победоносным видом он несколько раз объехал круг, посматривая на меня с некоторым презрением: стою я так печально за барьером и на мне — самые обыкновенные длинные брюки и какое-то там зимнее пальто.
Он же сначала был как ветер, — правда, тихий такой, слабенький ветерок.
Потом он устал, сел на скамью и говорит:
— Очень уж круг большой… И у меня уже болят ноги… Я буду теперь отъезжать немного и сразу возвращаться, чтоб посидеть. Покатаюсь немножко и вернусь… Потом ещё немножко и опять вернусь.
— Пожалуйста, — говорю я, — как угодно. Я в конькобежном деле не разбираюсь.
А сам задумчивым взглядом всё слежу за одной конькобежкой в огненном свитере.
Человечек начал действовать по новому методу: сначала он катился по течению, а когда ножки у него заболели, повернулся — и, разумеется, поехал против течения. Тут же на него налетела фигуристка в короткой чёрной юбочке и белых ботинках. Бац!
Едва он поднялся и начал стряхивать со штанишек ледяную пыль, как промчался конькобежец в шапочке с длинной кистью, и наш герой снова был сбит с ног.
Так повторилось несколько раз — мне даже жалко его стало.
Наконец он добрался до скамьи и говорит:
— Ты посмотри, папа: я просто катаюсь, а они на меня налетают.
— Постой, — говорю, — ведь это ты налетаешь на них.
— Я? Но ведь я маленький! Как же…
Он был прав.
— Да, — говорю я, — ты маленький, но ты идёшь против течения. Посмотри, как быстро они носятся… Попадёшься такому на дороге — и конец.
— Да не могу я весь круг объехать, — говорит он, сдерживая слёзы. — Мне надо отдыхать на скамеечке. А ты говоришь, я на них налетаю. Это они налетают на меня!
— Так-то оно так, — говорю я в отчаянии, — но ведь ты… ты идёшь против течения…
И я долго думал, как же ему это объяснить. Потому что и в самом деле — кто на кого налетает? И как же, скажите на милость, надо кататься на коньках?
Разговор о смерти
Мы гуляли вдвоём в Страшницах. Неподалёку от крематория стояла похоронная машина. В ней стоял гроб.
— Папа, — спросил Человечек, — это автофургон, правда?
— Да, — ответил я, — автофургон.
— А что он развозит?
— Покойников, — отвечаю.
— А что такое покойники?
— Мёртвые, — сказал я.
— То есть когда человек умирает?
— Да, сынок.
Он опечалился. Долго смотрел на погребальную машину, потом говорит:
— Папа, а где он лежит?
— Кто где лежит?
— Ну, покойник, — прошептал он.
— В кузове, — сказал я.
— В самом кузове?
Машина стояла чёрная, мрачная. Человечек ощутил страх перед смертью. Он посмотрел на меня очень испуганно и спросил:
— И каждый должен умереть?
— Каждый, — сказал я, — каждый, сыночек. Таков удел человека.
— Но ты умрёшь раньше, чем я? — спросил он с надеждой в голосе.
Я его утешил, сказав «да».
— Ну, пошли, — сказал я потом. — Свернём налево, там есть лужайка, а на ней растут ромашки и маргаритки.
— Папа, маргаритки тоже умирают?
— Или знаешь что, давай купим мороженое. Да не смотри ты на этот автомобиль…
Но он всё смотрел и смотрел и уже в полном отчаянии спросил:
— А покойнику обязательно лежать в кузове?
— Обязательно, — ответил я. — Какое ты хочешь мороженое? Сливочное?
Он всё стоял и смотрел: он едва не плакал.
— Папа, — проговорил он наконец, — а можно мне, когда я умру, сесть рядом с шофёром?
— Можно, — говорю я, — конечно, можно. Только разговаривать с ним нельзя, это запрещено правилами уличного движения.

Он обещал молчать. И он очень обрадовался, даже подпрыгнул.
— Пойдём, — сказал он, — нарвём ромашек, сделаем букет. Пока мы живы. А может, и кузнечика поймаем.
С тех пор он не боится смерти.
Я тоже не боюсь.
Раз нам разрешат сидеть рядом с шофёром…
Букет мы нарвали большой и красивый. Из ромашек, маргариток и одного лилового колокольчика.
А мороженое мы ели клубничное.
Мы чудесно провели время.