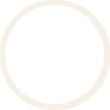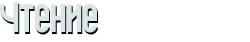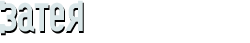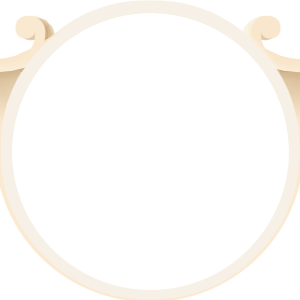
Главная Сен-СансНа шестилетие мама сделала странный подарок: записала меня в музыкальную школу. Вообще-то, я хотела котёнка.Мы решили поговорить о музыкальном образовании и подготовили несколько разных историй на тему. Перед вами история первая. На шестилетие мама сделала странный подарок: записала меня в музыкальную школу. Смысл подарка был категорически непонятен. Да, у нас стояло пианино в большой комнате. Но по его клавишам уже бегали, округлившись яблочком, руки моей старшей сестры. Я ни разу не проявила к этому процессу ни малейшего интереса и была уверена, что именно безразличие гарантирует свободу. «У девочки обязательно должно быть музыкальное образование», — отрезала мама. И я поняла, что музыкальное мучение неизбежно. Надо было сразу позиционировать себя чёртом, c младшей группы детского сада, вот что я вам скажу. Во всяком случае, обошлось бы без жертв среди педагогического состава детской музыкальной школы города Алушта. Я очень хорошо помню этот день: вот мы идём с мамой по Заречной, двориками. На клумбах сохлая трава, пахнет изабеллой и приближающейся осенью. Солнце бледное. Вдруг звучит мамина новость, и солнце становится бессмысленным кругом, а привычная мне реальность ломается. И я с удивлением обнаруживаю, как легко это происходит. Дальше я иду уже по огромной трещине — вот тут моя прекрасная, моя любимая жизнь с беготней, драмкружком, танцами и кружком юннатов, с качелями и прыгалками, с ежедневным постом у калитки с 16:45 до 17:00 в ожидании папы, а тут — горькая судьба старшей сестры, по нескольку часов в день седлающей триоли. Я всё еще держу мамину руку, я люблю ее, как и прежде, и она меня любит так же. Но эта любовь не мешает ей отдать меня в рабство Через неделю, к собственному удивлению обнаружив на прослушивании бездну музыкальных дарований, я была принята в школу. На открытом собеседовании, где присутствовали и родители, ученикам предстояло выбрать, какому инструменту посвятить свое будущее. Когда подошла моя очередь, я метнула взгляд на шкафы с большими черными кофрами и заявила: «Аккордеону!» — «Он же огромный! — не сдержалась мама, сидящая в последнем ряду. — Учительнице по классу фортепиано, кстати, ее имя — одно из немногих, которые не отложились в моей памяти, я была послана в наказание за Надежда Яковлевна Первый год старалась. Болели мозоли на пальцах, но я терпела. Штудируя гаммы, закаляла беглость пальцев. И продолжала радовать Надежду Яковлевну, разучивая андреевские народные вещицы. Она играла композиции, которые планировала дать мне на растерзание в будущем. Очень хотелось Свиридова и В Первые академы я отыграла прекрасно. Научившись манипулировать вниманием взрослых еще в детском саду — конечно, конечно, ведь я лучше всех читала стихи, танцевала и играла козу в «Кошкином доме», — играя академконцерты, я открыла для себя большую сцену. Смейтесь сколько угодно. Торжественно неся свой профиль, я выходила на середину сцены, останавливалась у стула выступающего, поворачивалась к залу со счастливейшей улыбкой на лице, коротко, но с глубоким почтением кланялась публике, после садилась, закидывала ногу на ногу, укладывала правильно инструмент, бросала взгляд на аккомпаниатора и уверенно начинала. За артистизм всегда было 5. К третьему классу остался только он.
Открытием главного кошмара, кажется во втором классе, стала та самая учебная дисциплина, что призвана развить мой слух и музыкальную память — соль-фед-жи-о. «Ведь я не знала, что слова "сольфеджио" и "суицид" — синонимы», как заметила недавно подруга, — я тоже это не сразу поняла. На каждом новом занятии я закипала, силясь расслышать слова Таисии Михайловны. Отчетливо виднелась лишь разница между скрипичным и басовым ключом. Но не так страшен доминантсептаккорд, как необходимость намалевать его на нотном стане, — многие поймут, о чем я. Когда Таисия Михайловна наигрывала то, что расслышали мои уши, класс ревел от смеха. И это нисколько не помогало мне понять, каким чудом звуки из воздуха превращаются в ноты. Начало сентября. Окно маленького кабинета сольфеджио выходит в крымский двор, увитый виноградом. Таисия Михайловна проиграла диктант — класс определил тональность, размер и, кажется, количество тактов. Она проиграла его снова. Потом еще раз — и вышла из класса. Я смотрю в окно на подрумяненную перезревающую виноградную гроздь. Я хочу эту гроздь, в отличие от диктанта, ее хотеть приятно. Взбираюсь на подоконник, открываю маленькую форточку, высовываюсь в нее, тяну руки, дотягиваюсь — она в моих руках — пытаюсь влезть обратно. И не могу. Не могу обратно влезть — плечи мешают. Класс смеется — я злюсь и упираюсь коленками в оконное стекло. Оно трещит и крошится, и мои белоснежные колготки с ажурным рисунком рвутся на коленке. Я чувствую это и плачу. За моей спиной стоит Таисия Михайловна. В очередной раз тяжело вздыхая, она пытается понять, Еще были выступления школьного оркестра народных инструментов, в котором я играла роль главного шоумена, как Гаркуша в «Аукционе». Право носить банты любимого цвета я пыталась отстаивать, всякий раз участвуя в выступлениях, но тщетно. В минуты, когда оркестранты отстраивались, а рабочие сцены коммутировали провода, Петр Яковлевич, дирижер, внимательно отслеживал, чтобы микрофоны были от меня подальше — я никогда не учила свою партию. Зато если снимали телевизионщики, моя физиономия всегда бывала рекомендована для веселых крупных планов. «Полина, — обращался Петр Яковлевич к первой домре оркестра и лучшей ученице в школе, — у тебя есть запасные белые банты? Наша прима снова в синих». Мне повезло лишь однажды, но в то выступление нас никто не снимал. Полиной Егошиной меня стыдила и мама, и преподаватели. Дескать, вот на кого равняться нужно. Пока ты ищешь, как отлынить от важной работы, она по четыре часа в день совершенствует в себе звучание струны, развивает чувство септ и всех остальных аккордов. До чего правы были мои хулители, я поняла на одном зимнем академе. Как всегда, опаздывая, понимая, что не успеваю разогреться, я залетела в класс, раздеваясь на ходу. Полина сидела неподалеку от входа, под рогатой вешалкой, и, разогреваясь, бегала пальцами по грифу. Я не заметила, как это вышло, но здоровая металлическая рогатина, увешанная зимней одеждой обрушилась вершиной прямо на ее головку. Когда мы извлекали Полину На самом деле, мне было за что любить музыкальную школу. Даже тогда, когда я ее просто ненавидела. Параллельно со мной по классу фортепиано занималась Маша Тоечкина, моя одноклассница по общеобразовательной школе. Она научила меня слышать ноты в слогах имен, различать цвета дождя и выуживать музыку из хаоса. Иногда мне кажется, что благодаря ей, а вовсе не уроку музыкальной литературы я научилась слушать инструмент и понимать, что музыкант настолько реален, насколько он безумен, а безумие музыканта — самое разумное из всех. И нет такого процесса, которому стоило бы отдаваться без волнения. Ожидая очереди на сцену, она всегда сидела с закрытыми глазами, открыв их, поднималась к роялю, словно присматривалась к нему по дороге, сев перед инструментом, прежде чем приступить, примеряла ладони к клавиатуре, и как бы точно по заданному ни звучали первые аккорды, она прислушивалась к ним, будто доктор, анализирующий тоны сердца. Я сменила два музыкальных инструмента и четырех преподавателей; в разные периоды тех лет несколько раз окрылялась идеей музыкальной карьеры, но легко прощалась с нею. Я научилась делать многое «через не хочу”, быстро преодолевать большие расстояния, опаздывая то на танцы, то в драмкружок после музыкальной школы или перед ней; развила способность не слушать, что мне говорят, возмужала как лгунишка; всякий раз придумывая, куда бы пойти вместо музыкальной школы, полюбила краеведческие музеи и районные библиотеки, надышалась йодистым запахом моря, гуляя по набережной, посмотрела впервые «В джазе только девушки”, стоя в открытых, ибо страшная жара, дверях кинотеатра «Шторм» почти весь фильм; возвращаясь из музыкалки вечерами, наловчилась забрасывать уличных кошек в открытые форточки домов — и ни разу не была застигнута на месте преступления! И когда я рассказывала Маше об этом, над моей головой нежно звенели разноцветные стёклышки — так она смеялась. Школу я закончила с одними тройками, отучившись в общей сложности восемь лет. В моем аттестате уже никогда не появится Продолжение следует… 6 ноября 2012
Чтобы оставить комментарий к статье, вы должны авторизоваться.
|
Другие материалы
|
|
|